
Спустя почти четыре года после запуска первой «атомки» чиновники в лице министра энергетики Дениса Мороза заявляют о «бурном росте потребления» и «очевидных позитивных моментах» от атомной энергетики.
Однако детальный анализ ситуации, основанный на опыте эксплуатации первой станции и мнении независимых экспертов, показывает, что эти планы сомнительны с экономической, экологической и социальной точек зрения. Вместо того чтобы обеспечить энергетическую безопасность, режим рискует создать ещё больше проблем для страны на десятилетия вперёд.
Заявления чиновников о «стратегическом развитии» звучат как эхо из прошлого, а эксперты и экологи продолжают указывать на все те же нерешённые проблемы, что преследовали и первый проект. Неопределённость с хранением отходов, постоянный рост тарифов и отсутствие реального рынка сбыта — это лишь малая часть списка.
Экономический провал: когда «выгодный продукт» становится бременем
Главный аргумент, который выдвигают сторонники новой АЭС, — экономическая целесообразность. Денис Мороз заявляет, что страна достигла исторического максимума потребления электроэнергии и «очевидно, задумывается» о строительстве нового объекта, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.
«Совершенно понятно, что, получив опыт эксплуатации Белорусской атомной электростанции, получив ее надежность, безопасность, экономичность и влияние суммарно на экономику страны... мы видим совершенно очевидные позитивные моменты», — заявляет министр.
Однако этот оптимизм расходится с фактами.
Во-первых, БелАЭС строилась на российский кредит в 10 млрд долларов, который пока не весь потрачен. Уже сейчас этот долг лежит на плечах беларусов, и строительство ещё одной станции или блока потребует новых, не менее внушительных финансовых вливаний.
Во-вторых, главная цель — снижение тарифов — не была достигнута. Напротив, после ввода БелАЭС в эксплуатацию цена на электроэнергию для населения продолжила расти.
Согласно данным Национального статистического комитета, средняя цена за 100 кВт·ч в первом квартале 2025 года составила 27,34 рубля, что на 13,3% больше, чем два года назад.
Напомним, в 2018 году заместитель министра энергетики Ольга Прудникова уверяла, что «с точки зрения восприятия как реальным сектором экономики, так и населением тарифы после ввода атомной станции не должны увеличиться».
В-третьих, у первой АЭС до сих пор нет достаточного количества потребителей. Специалист по энергетической безопасности iSANS Евгений Макарчук отмечает, что для БелАЭС искусственно создают спрос, вводя субсидированные тарифы на электроэнергию для отопления.
«Фактически для неё искусственно создают спрос на электроэнергию. Таким образом придумывают, куда деть электроэнергию, на которую нет потребителей. Если их нет у первой АЭС, то зачем вторая?» — задаётся вопросом эксперт.
Кроме того, Макарчук указывает на техническую особенность атомных станций, которые не могут оперативно менять мощность. Когда потребление электроэнергии в стране снижается, АЭС продолжает работать на полную мощность, что создаёт избыток энергии. Эта проблема, которая уже существует с одним блоком, усугубится с появлением третьего или новой станции.
В-четвёртых, планы экспорта энергии в Россию и на оккупированные украинские территории, о которых говорил Лукашенко, выглядят необоснованными.
«В России нет недостатка электроэнергии. Там есть атомные станции, их достаточно», — поясняет Евгений Макарчук, отмечая также большие расстояния и наличие мощной, но неработающей из-за войны Запорожской АЭС на оккупированных территориях.
Экологическая бомба: отходы, которые останутся на века
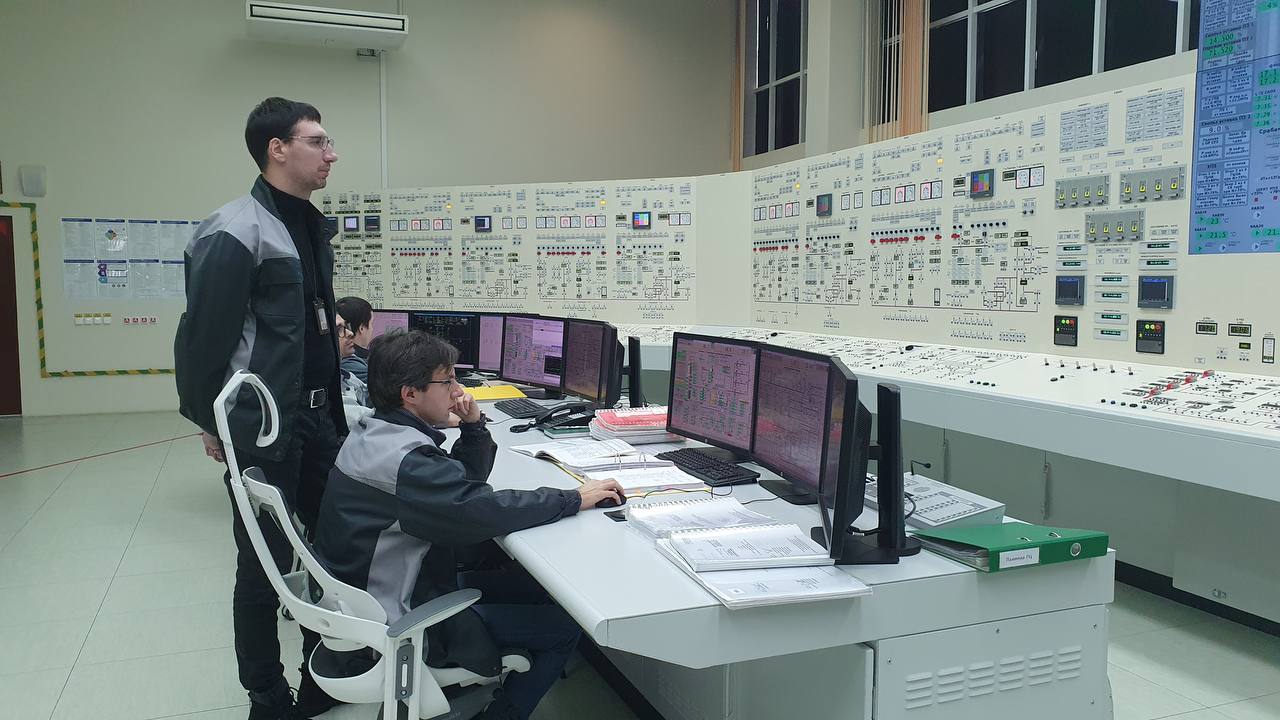
Экологические риски, связанные со строительством второй АЭС, не менее остры. Главная проблема — утилизация радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива.
Во-первых, власти до сих пор не определились с местом для строительства могильника для радиоактивных отходов. Несмотря на то что в марте 2025 года Денис Мороз заявлял, что «целью является сооружение этого объекта к 2030 году», в программе деятельности Совмина на 2025-2029 годы прописана лишь «подготовка площадки». Это означает, что сроки снова сдвигаются.
Почему это так важно? Как объяснял российский физик-ядерщик, активист Беларусской антиядерной кампании (БАЯК) Андрей Ожаровский, приреакторное хранилище на площадке самой БелАЭС в Островце рассчитано всего на 10 лет. Учитывая, что станция начала работать в 2020 году, время на исходе.
«Учитывая проблемы с Островецкой АЭС, боюсь, строительство могильников затянется надолго. К тому же, это требует огромных денег, которых у Беларуси нет», — говорит эксперт по радиационной безопасности Сергей Бесараб.
Во-вторых, эксперты выражают сомнения в безопасности будущих хранилищ. Сергей Бесараб предполагает, что вместо современных глубинных могильников будут построены приповерхностные, которые не обеспечат должной герметичности.
«В России опыт строительства таких хранилищ очень маленький. И даже они признают, что такие хранилища не обеспечивают полной герметичности и через 100 лет возможны протечки. В итоге радионуклиды, цезий и стронций, попадут в поверхностные воды и почвы, что чревато последствиями, аналогичными Чернобыльской аварии», — предупреждает эксперт.
Это означает, что Беларусь, которая и так больше всех пострадала от Чернобыльской катастрофы, рискует создать ещё один источник ядерной опасности, который ляжет тяжёлым бременем на многие поколения.
«Страна, построившая АЭС, навсегда оставляет у себя ядерные отходы, которые нужно хранить и утилизировать. Это бремя ляжет на плечи беларусов на столетия», — подчёркивает Бесараб.
Социальные последствия: от доверия до страха

Социальный аспект проекта не менее важен. Опыт строительства и эксплуатации первой БелАЭС подорвал доверие общества к официальной информации. Постоянные переносы сроков запуска, бесконечные остановки реакторов, а также скандальные происшествия, как, например, падение корпуса реактора в 2016 году, вызвали множество вопросов.
Проблемы с документацией и отсутствие прозрачности — ещё один важный фактор. Летом 2020 года экологи забили тревогу, обнаружив тендеры на восстановление документации и установку противопожарной системы незадолго до запуска станции. Это говорит о халатности и потенциально опасных упущениях.
Также беспокойство вызывает практика перевода загрязнённых территорий в категорию «условно чистых».
«У меня просто волосы дыбом встают от самой формулировки – «условно чистое». Радионуклидов вообще не должно быть в продуктах», — возмущается Сергей Бесараб.
В сложившейся ситуации эксперты призывают беларусов проявлять бдительность и не полагаться на официальные заявления. Учитывая, что у властей нет опыта и достаточных финансовых ресурсов для строительства и безопасной эксплуатации такого объекта, риски для населения возрастают.
Всё это заставляет задуматься: так ли необходимо стране ещё одно атомное «счастье», если цена его эксплуатации и последствия могут оказаться непосильными для будущих поколений?